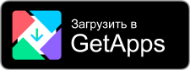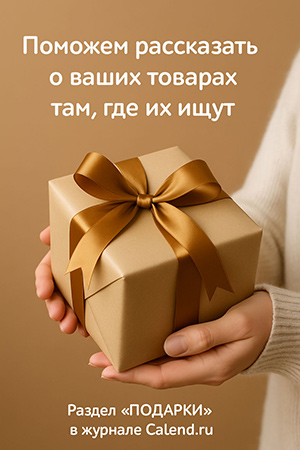3 июля 1925 года родился режиссёр Анатолий Эфрос
Анатолий Эфрос: гений, которого «сгубила Таганка»
3 июляТак уж сложилась судьба Анатолия Эфроса, что наряду с актёрским и режиссёрским ремеслом ему приходилось осваивать ремесло кризис-менеджера ещё до того, как это стало мейнстримом.

Кадр из документального фильма «Тайны кино»
Сначала он возродил к жизни Центральный детский театр, куда был направлен как режиссёр-постановщик и где служил под крылом у своего институтского педагога Марии Кнебель, потом возглавил Московский театр им. Ленинского комсомола, у которого в тот момент складывалось всё не очень хорошо, и Эфрос не просто возродил театр, но вывел постановки его на совершенно новый уровень. Но всякий раз после взлёта Эфросу будто не хватало силы крыльев для полёта, и следовало если не падение, то полоса неудач и сомнений.
Желание спасти, возродить было в его характере. Оно помогало Анатолию Васильевичу ставить свои лучшие вещи, но и оно и сгубило его, когда он с этим желанием пришёл в Театр на Таганке.
У Театра на Таганке к тому времени сложилась яркая и сложная репутация одного из самых авангардных театров страны. Юрий Любимов пришёл туда главным режиссёром после того, как его спектакль со студентами третьего курса Щукинского училища «Добрый человек из Сезуана» сломал все театральные стереотипы тех лет. С Любимовым пришли его ученики, и режиссёр вспоминал:
«Состояние театра было ужасное. Публика на спектакли совсем не ходила. Я тогда поставил условие: закрываю старый репертуар и открываю новый. И, главное, я прихожу со своими ребятами».
Это было звёздное время: к труппе присоединились Владимир Высоцкий, Николай Губенко, Валерий Золотухин, Вениамин Смехов, Леонид Филатов и многие другие. Подход к постановкам был принципиально новым: в спектаклях практически не использовался занавес, декорации, но зато придумывались оригинальные авторские сценические конструкции, пантомима, театр теней. Постепенно «Театр на Таганке» стал брендом, знаком престижа, для театра было выстроено новое здание с современным техническим освещением, а старое помещение было отреставрировано.

Однако режиссёрская смелость Любимова не всегда нравилась руководству, частенько над спектаклями, казавшимися чиновникам острыми и слишком откровенными, нависала угроза запрета. Постепенно ситуация ухудшалась: запретили спектакль «Владимир Высоцкий», и Любимову пришлось просить личной встречи с Ю.Андроповым и хлопотать за спектакль, запретили репетиции «Театрального романа».
Критической точкой стало интервью Юрия Любимова в 1983 году, которое он дал газете «Times» во время пребывания в Лондоне, где ставил «Преступление и наказание». В разговоре с журналистами Любимов критически отзывался о советской цензуре, которая мешала его режиссёрскому гению проявить себя. После интервью, по словам Любимова, последовали угрозы со стороны представителей советского посольства в Лондоне, и по этой причине он был вынужден обратиться в МИД Великобритании. В СССР Любимов принял решение не возвращаться, несмотря на требование советского руководства. Он работал в Болонье, лечился в Милане, после работал в Италии и Англии, в Западной Германии и во Флоренции. После смерти Андропова в 1984 году Любимов окончательно лишился благосклонности властей и был уволен с должности из-за «отсутствия на работе без уважительной причины», лишён гражданства, а его имя убрали со всех афиш театра и запретили о нём даже упоминать.
И вот тогда в Театр на Таганке пришел Анатолий Эфрос. Анатолий Васильевич был полон решимости спасти театр, над которым нависла тень высокопоставленных недоброжелателей. Последовали сильнейшие постановки: «На дне», «Вишневый сад», «Мизантроп», «У войны не женское лицо», но актёрская труппа восприняла Эфроса в штыки, отказывалась сотрудничать. Сам Юрий Любимов отозвался о приходе Эфроса как о предательстве, «штрейкбрехерстве», хотя Эфрос был назначен в театр, это не была его личная инициатива. Коллектив театра на Таганке пытался всеми силами вернуть себе Любимова, а государство, которое лишило театр любимого Любимова, навязало коллективу нового руководителя. Несколько актёров, в числе которых были Вениамин Смехов и Леонид Филатов, демонстративно покинули «Таганку» и перешли в «Современник», остальные же актёры объявили Эфросу бойкот.

Кадр из документального фильма «Тайны кино»
Народный артист России Андрей Житинкин, режиссёр-постановщик Малого театра, вспоминал:
«Он был человеком очень совестливым и ранимым, чего, правда, не показывал. И ужасающими были последние события в его жизни — травля на Таганке, которая подтолкнула этот немыслимо ранний его уход, всего в 61 год. Проколотые шины автомобиля, разрезанная дубленка… Да, актёры никак не могли ему простить того, что он пришёл на место Любимова. Помню эту историю отлично, потому что отражённым светом она изменила всех».
Успех постановок Анатолия Васильевича не помогал ситуации, а, напротив, разжигал конфликт ещё больше: каждая премьера поддерживалась прессой, и это ещё больше усугубляло ненависть к Эфросу. Когда в 1985 году в стране сменилось руководство, для Юрия Любимова появилась возможность вернуться, и Анатолий Эфрос был одним из тех, кто подписал коллективное письмо актёров Театра на Таганке в поддержку его возвращения. Хотя прекрасно понимал, что тогда ему придётся уйти. Знал, потому что читал слова Любимова в интервью газете «Новое русское слово»: «Я хочу работать на старой сцене, но я не желаю видеться с господином Эфросом и вступать с ним в какие-либо контакты».
В 1986 году Эфрос поставил спектакль «Мизантроп» Мольера, это был последняя его постановка в театре. Несложно представить себе, в каком эмоциональном, психологическом напряжении пребывал Анатолий Васильевич в свой «таганский» период: окружённый враждебно настроенными актёрами, он каждый день пытался преодолеть этот незаслуженный остракизм, всё-таки пытался спасти театр – сделать то, что умел делать лучше всего, во что больше всего верил. Но в самом начале 1987 года Эфроса, перенесшего инфаркт, не стало.
Актриса Ольга Яковлева вспоминала, что смерть Эфроса потрясла даже его недоброжелателей, а актёры Таганки, которые так активно травили режиссёра, даже не нашли в себе смелости выйти в зал, где проходила панихида, а прятались за сценой.
«Ещё помню, когда все ушли из зала и остались все свои, а в окнах на сцене, в глубине, прятались актёры Таганки, – я знала, что они там, что они там прячутся, – я им крикнула: «Будьте вы прокляты! Волки!»
Федор Раззаков в книге «Леонид Филатов: голгофа русского интеллигента» писал, что недоброжелатели Эфроса по-разному встретили его смерть: кто-то отмолчался, Любимов был растерян, но именно Леонид Филатов, демонстративно покинувший «Таганку» с приходом Эфроса, поступил честнее всего:
«Пусть чуть позже, но он нашёл в себе силы публично покаяться перед покойным за те свои поступки, в которых позволил себе несправедливо нападать на режиссёра. Филатов сказал следующее:
«Я свой гнев расходовал на людей, которые этого не заслуживали. Один из самых ярких примеров – Эфрос. Я был недоброжелателен. Жесток, прямо сказать… Вообще его внесли бы в театр на руках. Если б только он пришёл по-другому. Не с начальством. Это все понимали. Но при этом все ощетинились. Хотя одновременно было его и жалко. Как бы дальним зрением я понимал, что вся усушка-утряска произойдёт и мы будем не правы. Но я не смог с собой сладить. И это при том, что Эфрос, мне кажется, меня любил. Потому что неоднократно предлагал мне работать… Я б ушёл из театра и так, но ушёл бы, не хлопая громко дверью. Сейчас. Тогда мне всё казалось надо делать громко. Но он опять сделал гениальный режиссёрский ход. Взял и умер. Как будто ему надоело с нами, мелочью… И я виноват перед ним».
Вениамин Смехов, также ушедший в «Современник», сказал об этой ситуации спустя годы, в марте 2006-го, в интервью газете «Известия»:
«Перед самим собой мне бывает странно, смутно и неловко за избыточную лихорадку в истории с Эфросом и Любимовым, за те панические выбросы публицистического свойства…».
Филатов, как человек гениальный в своей мудрости, за год до смерти Эфроса на 30-летии театра «Современник» прочитал вот такие, наболевшие и накипевшие, стихи:
«Наши дети мудры, их нельзя удержать от вопроса,
почему все случилось не эдак, а именно так,
почему возле имени, скажем, того же Эфроса
будет вечно гореть вот такой вопросительный знак».
Очень жаль, что талант Анатолия Эфроса, настоящий новаторский режиссёрский талант, пал жертвой дрязг и скандалов, которым не должно быть места в искусстве. После него остались книги, фильмы, телеспектакли, постановки, но сам он ушёл слишком рано. Наверное, так и бывает с людьми, которые отдают себя искусству без остатка, которым не хватает ни сил, ни времени разбираться в хитросплетениях интриг, которыми всегда мир искусства полон. А ведь единственным его желанием было, чтобы театр жил – любой театр, каждый, в который он приходил. Ирония судьбы в том, что каждый из тех театров, которые когда-то пытался спасти Эфрос, живёт и по сей день. А самого Анатолия Васильевича уже давно нет на этом свете.