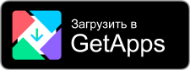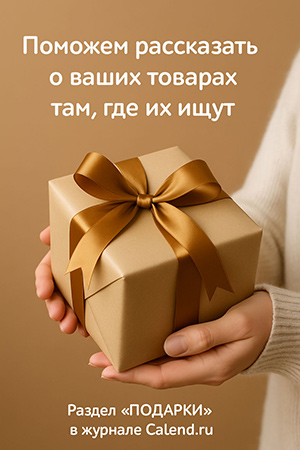20 октября 1880 года Московский цирк на Цветном бульваре принял первых зрителей
Юрий Никулин и другие великие имена Цирка на Цветном бульваре
20 октябряМосква конца 19 века: шумные улицы, деревянные лавки, а на Цветном бульваре — вселенная смеха, трюков и чудес. В наше время услышать название «Цирк Никулина» значит мысленно представить себе образы легендарных клоунов Никулина, Попова, Енгибарова, услышать шум аплодисментов, которые не смолкают по сей день. Но не менее интересна история этого цирка, ведь в ней — почти полтора века борьбы, инноваций, гениальных решений и настоящих революций в мире циркового искусства. Сегодня рассказываем о том, как купец-золотопромышленник спас идею, почему дети впервые увидели цирк именно здесь и какие люди привели Цирк на Цветном бульваре к званию «символа российской цирковой культуры».

Фото: nikulina-cirkue.ru
Когда в 1880 году Альберт Саламонский, продолжатель династии цирковых артистов, приехал в Россию и решил построить стационарный каменный цирк, огромных денег, требующихся на строительство, у него, конечно же, не имелось. Важно было не просто найти деньги, но ещё и вернуть их в кратчайшие сроки, то есть сделать так, чтобы цирк был успешен. Важно упомянуть, что цирк строился в условиях жесткой конкуренции: уже функционировал цирк полковника Новосильцева, филиал знаменитого петербургского цирка Гаэтано Чинизелли открыл в Москве на Воздвиженке Карл Гинне. В этом цирке, кстати, выступал сам Альберт Саламонский в качестве дрессировщика и наездника. Деньги на строительство цирка выделил купец и золотопромышленник Александр Данилов, а место для строительства было выбрано не случайно: именно на месте бывшего цветочного рынка традиционно раскидывали свои шатры и балаганы бродячие артисты.
Чтобы цирк был успешным и зарабатывал много денег, он должен был чём-то выгодно отличаться от конкурентов. Саламонский сделал ставку не на состоятельную публику, которая составляла основной процент посетителей, к примеру, цирка Чинизелли, а на зрителей с самым разным доходом. Поэтому в цирке сделали совсем небольшой партер – всего пять рядов кресел, но зато поставили больше деревянных скамеек и организовали стоячую галёрку.
Именно в цирке Саламонского впервые начали проводить детские представления: на это было дано особое разрешение властей, а программа «приноровлена под детское восприятие». Стали проводить воскресные и рождественские цирковые утренники, и это нововведение было воспринято московскими детьми с большим восторгом. Ну и, конечно, многих привлекал буфет: туда могли попасть не только зрители, но и все желающие, и в этом была идеальная маркетинговая стратегия — заглянуть в буфет, выпить рюмочку, услышать восторженные отзывы о представлении от других посетителей, не удержаться и тоже купить билет в цирк. Билеты в цирк Саламонского были вполне по карману всем категориям москвичей, да и сам цирк был попроще, но зато богаче по репертуару: там постоянно показывали какие-то новинки, на которые сбегалась посмотреть вся Москва. И обязательно в цирке Саламонского работало много клоунов, ведь он считал так: «Что за цирк, если публика в нём мало смеется».
В цирке Саламонского с 1887 года выступал дрессировщик Владимир Дуров, родоначальник знаменитой сейчас семьи дрессировщиков и основатель «Уголка дедушки Дурова». Он был не просто артистом и дрессировщиком, но и учёным, изучавшим труды Сеченова и разработавшим свою методику дрессировки животных.
Не менее важную роль в истории Цирка на Цветном бульваре сыграл Вильямс Труцци, художественный руководитель и директор цирка, занявший эту должность после революции, национализации цирка Саламонского и подписания декрета «Об объединении театрального дела». Труцци стал приглашать на гастроли зарубежных артистов и организовывать для них выступления как в двух российских столицах, так и в провинции.
С 1936 года в цирке начал выступать Михаил Румянцев, знаменитый клоун Карандаш. И если до Румянцева клоуна воспринимали как проходной персонаж, которым заполняют паузы, то он сумел вывести клоунаду в ранг отдельной профессии, а клоун стал считаться центральным актёром цирковой программы.

Михаил Николаевич Румянцев поначалу выбрал для себя образ Чарли Чаплина, но уже скоро от него отказался и предстал перед публикой как Каран Д’Аш с его конусообразной шляпой, мешковатым пиджаком и широкими штанами. Впервые Карандаш появился на манеже Ленинградского цирка, но уже в 1936 году его перевели в Москву, и именно в Цирке на Цветном бульваре он обрел всесоюзную популярность. Знаменитый скотч-терьер по кличке Клякса впервые вышел на манеж тоже в Цирке на Цветном бульваре. Безусловно, не только удачный образ помог Карандашу обрести славу: он выходил на манеж порой с очень смелыми политическими шутками. К примеру, была сценка в застойные брежневские времена, когда он выходил с авоськой, полной деликатесов, и молчал. А когда зал в молчании ждал от него слов, говорил:
— Я молчу потому, что у меня всё есть. А вы почему?!.
Но Михаил Николаевич обладал очень тонким природным остроумием и мудростью, поэтому строил свои шутки и сценки так, чтобы не переходить границы дозволенного, но при этом сказать всё то, что хотел сказать.
Именно Михаил Румянцев вывел на сцену Юрия Никулина и Михаила Шуйдина — их дуэт после стал невероятно знаменитым.

Ещё одно знаковое имя для Цирка на Цветном бульваре — Николай Семёнович Байкалов, который стал директором сразу после войны в 1945 и поднял цирк на новый уровень. Он был противоречивой фигурой, его боялись и уважали, но именно он привлёк в цирк выдающихся режиссёров, сформировал Студию клоунады и оставил в цирке Никулина и Шуйдина на постоянной основе. Сам Юрий Владимирович вспоминал о Байкалове:
«К своей работе Байкалов относился ревностно. Он почти ежедневно следил за ходом представления. Обычно пристраивался где-нибудь на площадке в амфитеатре и смотрел, как проходит тот или иной номер. Артисты никогда не знали, находится Байкалов в зале или нет. За малейший завал на манеже, допущенную небрежность в костюме артисту в тот же день устраивался разнос».
Одним из самых известных представителей профессии шпрехшталмейстер стал артист Цирка на Цветном Александр Борисович Буше. Он начинал как наездник и дрессировщик лошадей, а в качестве шпрехшталмейстера запомнился тем, что сам принимал участие в цирковых номерах, подыгрывал клоунам. Сейчас это привычная практика, но в то время было в новинку.
В тот же период в цирке служил режиссер Арнольд Григорьевич Арнольд, которого признали одним из лучших цирковых режиссёров времён советского периода. Нельзя не упомянуть Марка Соломоновича Местечкина, циркового режиссёра, который ставил бесподобные программы и спектакли, где цирковые трюки были подчинены общему замыслу.
Многие номера, которые ставились в Цирке на Цветном бульваре, в мире не имели аналогов. С этим цирком связано имя иллюзионистов братьев Кио – представителей ещё одной цирковой династии. Будучи сводными братьями, Эмиль и Игорь сумели создать бесподобный дуэт, а на выступлениях им ассистировали их жены.
На манеже этого цирка стал знаменитым клоун Леонид Енгибаров — советский клоун-мим, выступавший в амплуа «грустный клоун». В искусстве пантомимы ему не было равных. Сергей Юрский писал о нем: «На арену впервые вышел талантливый душевный шалопай».
Манеж Цирка на Цветном бульваре, конечно же, осветила слава Олега Попова — «солнечного клоуна», образ которого был очень узнаваемым, а сценки — невероятно популярными.
Цирк на Цветном бульваре — это не просто здание, а живой организм, созданный поколениями артистов, режиссёров, дрессировщиков, клоунов, техников и даже кассиров, каждый из которых вкладывал в него частичку себя. Как говорил Юрий Никулин, сам прошедший путь от новичка до символа цирковой эпохи:
«Цирк — сложный мир. Здесь система взаимоотношений немного другая, нежели в других искусствах. Здесь каждый день люди держат в своих руках чью-то жизнь».
Сегодня, когда мы смеёмся над выходками клоуна или замираем от трюка на высоте, мы вступаем в диалог с этой великой цепью людей, чьи сердца и судьбы навсегда остались на этом манеже. И, конечно же, Цирк на Цветном бульваре — не просто достопримечательность Москвы, а памятник человеческому мастерству, смелости и любви к своему делу.