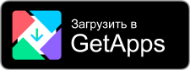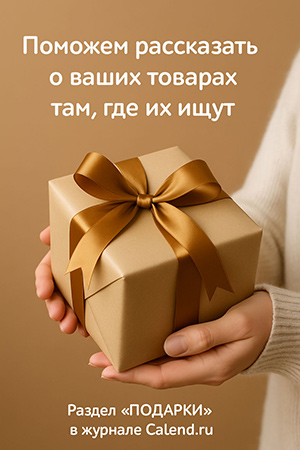3 октября 1935 года родился талантливый актёр театра и кино Армен Джигарханян
Армен Джигарханян: «Что наиболее важно в профессии актёра? – Да всё!»
3 октябряДва самых популярных вопроса, которые чаще всего задают артистам кино и театра, это «Как вы стали актёром? Что этому способствовало?» и второй – «Что вы считаете главным в отношениях между артистом и зрителем?»

Кадр из фильма «Здравствуйте, я ваша тётя!», творческое объединение «Экран», 1975 г.
Армен Джигарханян, отвечая на последний вопрос, всегда вспоминал молодые годы, когда прочитал статью Вениамина Каверина, в которой тот писал, что человечеством всегда движет желание общаться. Наверное, именно поэтому люди, помимо обычных диалогов друг с другом, видят общение в том, что пишут книги и ходят в театр.
Джигарханян был полностью согласен с этими словами. При этом он добавлял, что разговор между артистом и зрителем – он вечный. И театр замечателен именно этими непрекращающимся диалогом. При этом Армен Борисович добавлял, что связь между теми, кто играет на сцене и теми, кто находится в зрительном зале, должна быть дружелюбной. «Зритель, — говорил Джигарханян, — должен быть, прежде всего, собеседником труппы артистов, вот тогда диалог завяжется». Он откровенно огорчался, если видел, что актёры со сцены как бы начинают поучать находящихся в зале людей. «Зачем? – искренне удивлялся он. – Ведь народ пришёл неглупый, и главное – неравнодушный. Задача артистов – найти общий язык с публикой. Она разношёрстная, это верно. Но ведь на то он и артист, чтобы уметь поддерживать разговор со всеми вместе и с каждым в отдельности».
На вопрос, трудно ли выстроить взаимоотношения со зрителями, Джигарханян говорил, что очень трудно. И иногда очень сложно поймать эту искру, которая возникает между сценой и залом. Порой это происходит очень быстро, а порой… вроде и артисты стараются изо всех сил, и зритель неравнодушный – а связующего звена нет. Что тогда делать?

Кадр из сериала «Место встречи изменить нельзя», Одесская киностудия, 1979 г.
Главной ошибкой начинающих (да и не только начинающих) артистов являлось, по мнению мэтра сцены то, что актёры изо всех сил пытаются понравиться зрителю. А вот этого как раз делать не надо, полагал он. И приводил в пример то, как вела себя на сцене Эдит Пиаф. Она каждый раз появлялась с таким лицом, словно хотела рассказать зрителям что-то необычайно важное. И зритель понимал: актриса вышла на сцену не красоваться перед залом, а просто беседовать с ним. И это подкупало. Позднее Армен Борисович начал делать так же: выходил на театральные подмостки, и первое его движение было направлено в зал: он оглядывал тех, кто пришёл на спектакль. Этим самым он как бы спрашивал зрителя: «Ну, что? Поговорим?» Наверное, именно потому он и пользовался огромным успехом. Потому что он умел зрителя к себе расположить.
Самое страшное – это равнодушие
Его никогда не пугал так называемый «трудный зритель». Под «трудным» он понимал того, кто с ним в корне не согласен. А вот «нейтрального» зрителя он боялся. «Нейтральный – это же равнодушный! — восклицал Армен Борисович. – С трудным можно бороться, можно даже драться, его можно переубеждать! Равнодушный зритель – это страшно для актёра». Он не шутил, когда говорил, что лучше на сцену полетят помидоры, чем зал после представления молча встанет и уйдёт. Конечно, маловероятно, что весь зал может никак не отреагировать на сценическую игру, но когда равнодушных зрителей много – это ощущается сразу.
Джигарханян часто приводил в пример случай, когда какой-то зритель, поддавшись эмоциям, выстрелил в артиста, игравшего Яго и потом застрелился сам. Конечно, он не призывал остальных вести себя именно так, однако он подчёркивал, что если у зрителя была такая реакция на игру актёра – этот актёр сыграл безукоризненно.
Армен Борисович считал, что каждый вечер на сцене артист должен вести себя так, будто он сражается за людей. Если актёр сыграл так, что зрители прониклись к нему сочувствием (а, может, и отвращением, но отвращение – это тоже эмоции) – значит сражение выиграно!
Театр…
Он всегда мечтал работать именно в Москве, и нигде больше. И это желание возникло не потому, что он хотел, подобно Гиляровскому, называться москвичом, а потому, что московские театры казались ему самыми лучшими, уникальными, неповторимыми. А ещё он обожал просто ходить в московские театры, смотреть спектакли, слушать «Театр у микрофона». Когда Джигарханян ещё не жил в Москве, он постоянно просил привозить ему репертуарные книжечки из разных театров. Всё это подогревало в нём желание работать в Москве. Предложения были из разных городов: из Ярославля, Твери, Воронежа. Армен Борисович понимал, что театры в этих городах очень знамениты, особенно это касалось ярославского театра, но его никогда туда не манило.

А тогда… Тогда, в зимние предновогодние дни 1967 года вся театральная Москва разве только на ушах не стояла – известный режиссёр Анатолий Эфрос решил поставить спектакль про Владимира Ильича Ленина! Шаг был сам по себе смелым, но ещё более смелым было то, что на роль Ленина он пригласил не очень известного на тот момент Армена Джигарханяна. «Какая-то непроизносимая фамилия», — говорил режиссёр, то и дело спотыкаясь на втором слоге.
Эти планы не сбылись. То ли задумка действительно была рискованной, то ли драматург затянул с написанием пьесы – вскоре Анатолий Васильевич уже желал только одного: чтобы артист с непроизносимой фамилией не прилетал в Москву из Еревана.
Но артист прилетел, и его зачислили в штат. И вскоре не только режиссёр, но и все москвичи запомнили эту фамилию – Джигарханян.
Кино…
В кино он попал как-то совершенно случайно. Не собирался сниматься, даже не помышлял об этом. Но жизнь – странная штука: если не ищешь ты – ищут тебя! И Джигарханяна «нашли». Нашёл известный режиссёр Колосов, который когда-то снял первый многосерийный фильм «Вызываем огонь на себя». До этого кинокартин, состоящих из нескольких серий, в СССР не было, но Колосов, вдохновленный успехом, загорелся снять второй сериал – «Операция «Трест». Долго искал исполнителя на одну из главных ролей – Артура Артузова. Приглашал артистов из театров Москвы и Ленинграда, но всё было не то! Во время прогулки по городу внимание Колосова привлекла афиша с фамилией Джигарханяна (казалось бы, о чём может сказать фамилия! Но режиссёра как громом прошибло): «Вот он!»
И началось время съёмок, бесконечных репетиций, дублей. Но главное – это было время борьбы убеждений, психологический турнир двух врагов.
Угадал ли Колосов с ролью для Джигарханяна? Как ни странно – да. Армен Борисович признавался, что роль Артузова пришлась ему по душе. С одной стороны, профессиональный революционер, который имел дело с коварным врагом, он одновременно был нравственно духовным человеком. И вот это истинно духовное превосходство и позволило ему одержать победу над врагами революции.

Кадр из фильма «Операция «Трест», киностудия «Мосфильм», 1967г.
Ну а потом… Сразу после «Операции «Трест» началась эпоха Джигарханяна в кино. Его пригласили сниматься сразу в четыре фильма и в два телеспектакля – это ли не везение?
Отчасти – да, отчасти – нет. Да – потому что роль, которую Джигарханян сыграл самой первой, была очень запоминающейся. Она полюбилась зрителям, а ведь известно, что первое впечатление очень часто бывает самым сильным. Нет – потому, что кроме везения, Джигарханяну сопутствовал талант.
Про него писать можно долго. 375 ролей – это солидный багаж. И это только в кино. Если приплюсовать сюда ещё и театр – можно сбиться со счёта. Всего в одной статье не опишешь, да и надо ли?
Главное – наверное, то, что мы помним Армена Борисовича, что нам довелось жить в одну эпоху с ним, что мы – счастливчики – видели его в киноролях, и сложно сказать, какая из них была лучше.
Они все были лучшими. Как был лучшим тот, кто их сыграл – Армен Джигарханян, который частенько говорил, что в профессии актёра нет чего-то отдельно стоящего, чего-то главного. В ней важно всё!